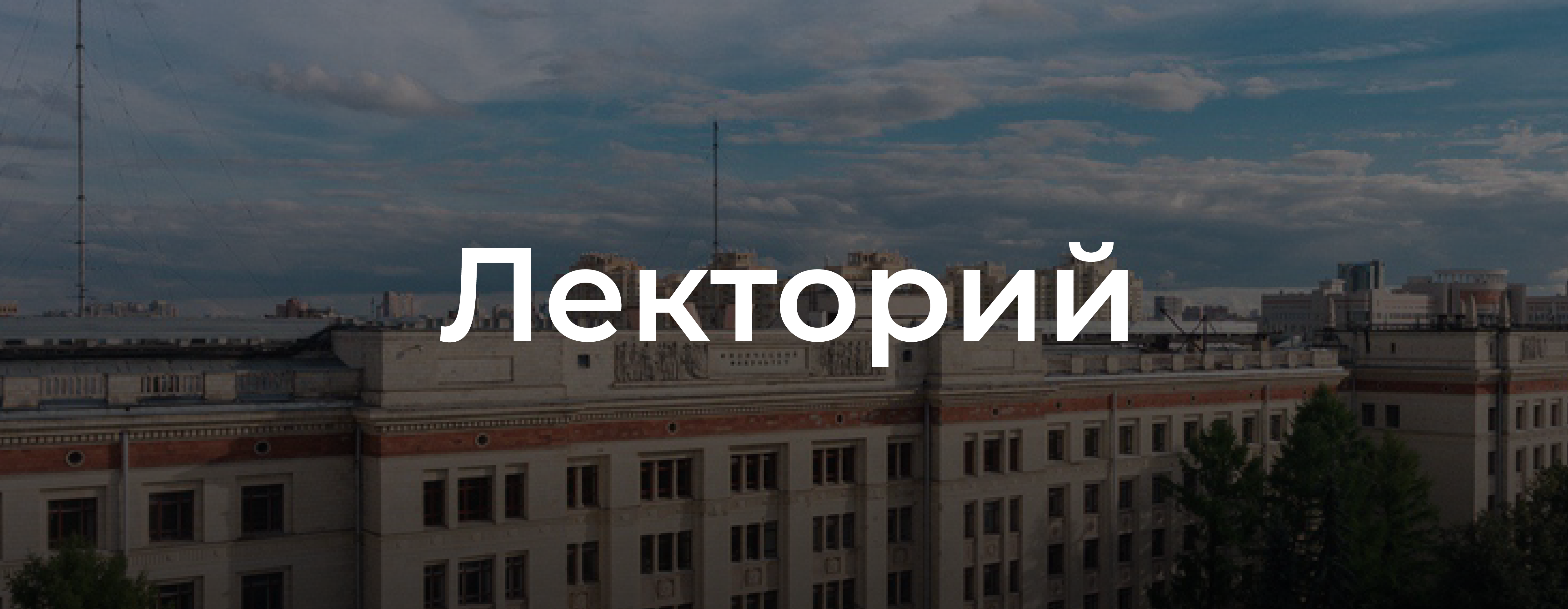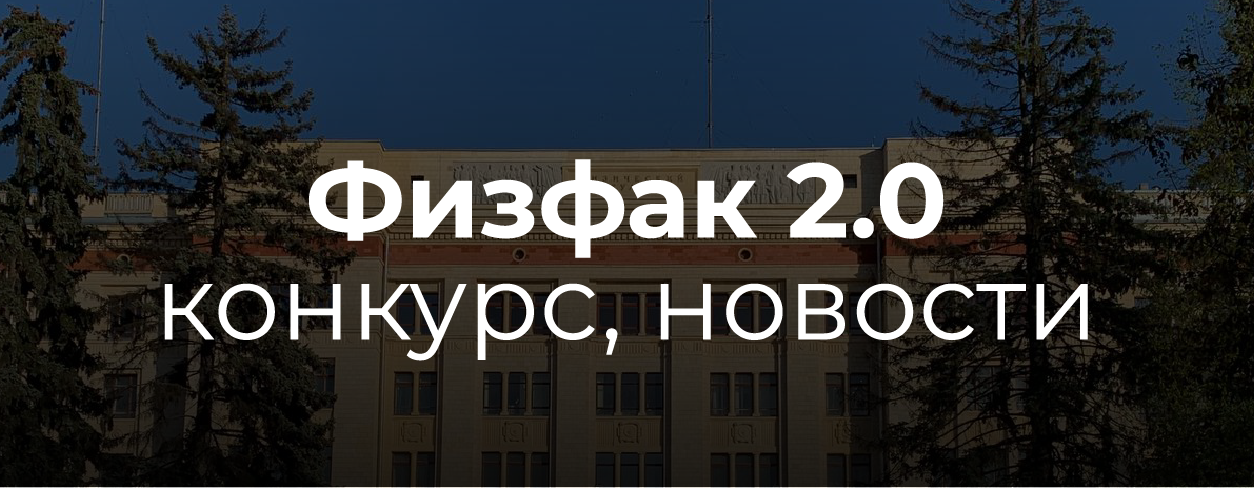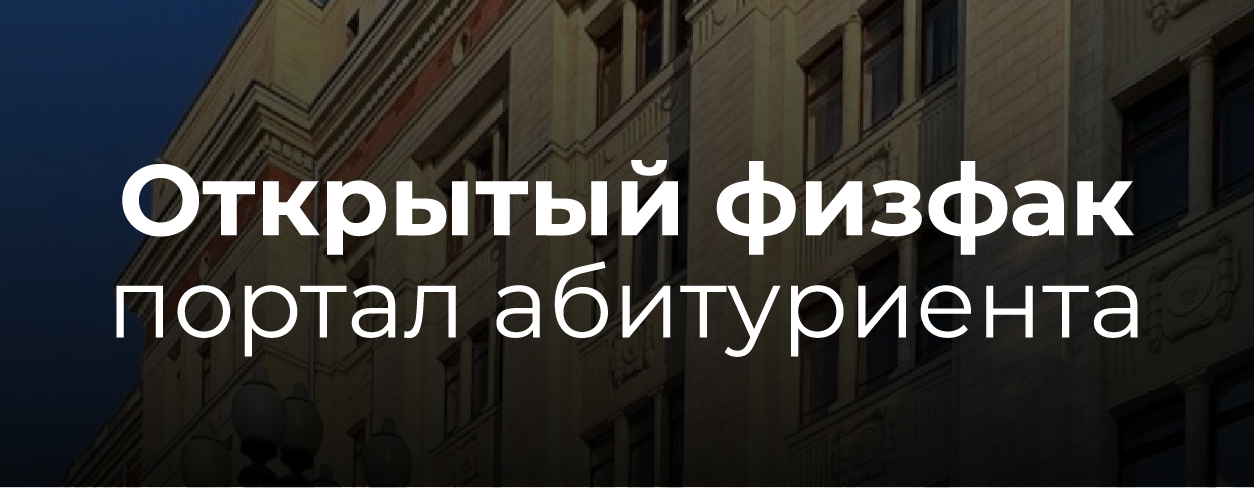Вашему вниманию предлагается доклад Валентина Семеновича Непомнящего с некоторыми сокращениями
Случай – «мощное, мгновенное орудие Провидения», – написал Пушкин осенью 1830 года в Болдине. Совсем недавно отзвонило тысячелетие Крещения – события, с которого Россия отсчитывает свое бытие как нации и культуры; и это произошло ровно за десять лет до пушкинской годовщины; и вот наступает новый век, надвигается третье тысячелетие христианской эры – и вплотную к этому, уже всемирно-историческому, рубежу примыкает, встречая нас на пороге нового эона истории, 200-летие Пушкина. "Бывают странные сближения», – писал он там же и тою же осенью.
Странные сближения, странный поэт. Вот об этом последнем я - как ни странно – задумался совсем недавно, хотя занимаюсь Пушкиным всю жизнь
Он менее всех мировых гениев переводим на языки и хуже всех постижим в переводе: в иноязычных культурах он берет за душу лишь тех, кто знает и любит наш язык, нашу культуру, кому Россия не чужая духовно.
Он, пожалуй, единственный в мире классик, который, будучи отдален многими поколениями, продолжает быть неоспоримым, животрепещущим едва ли не как газета, энергетически активным центром национальной культуры, заставляющим ее то и дело оглядываться на него и соотносить себя с ним. «Пушкин был дан нам для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории» (И.Ильин). Писатель – солнечный центр, но не культуры даже, а истории- видано ли это?
Из гигантов мировой культуры он один соединяет в себе предельную недоступность с предельной же фамильяризованностью; столь же объединяет, сколь и разделяет, является объектом как безумной любви (и неутолимой скорби о его гибели), так и зависти, а то и ненависти, о чем говорят некоторые опусы последнего времени).
Он есть неотъемлемая часть нашего национального мифа в такой мере, с какой не идет в сравнение ни один из светоч других культур; и сам он есть национальный миф, вмещающий весь космос народного духа со всеми его оттенками – от религиозных и героических до анекдотических, и так же не укладывающий в определения, как и то, что называют «русской духовностью».
С ним связано, явление подобного которому опять же нет ни в одной культуре мира и которое называется «мой Пушкин"., и это не требует комментариев.
Он самый изысканно светский из русских писателей, а тексты его как не раз замечалось, в светской культуре занимают место, по рангу сопоставимое с сакральным.
Потомок африканца, воспитанный по-французски, он явил в слове наиболее полное и гармоничное выражение русского духа. Он – единственный, может быть, из великих поэтов есть по счастливому выражению Цветаевой, ««поэт с историей»: не воспроизводящий себя на каждом шагу как постоянную величину, а с каждым шагом меняющийся, растущий и как раз потому остающийся – точнее, постоянно становящийся – собой. Это такой поэт, произведения которого – отдельный шедевр, вся лирика, наконец, все творчество в целом – есть сплошной процесс движения времени: движение личности, которая вместе с текстом творит себя и может «на выходе» из произведения оказаться иной, чем была :на входе» (перечитаем хотя бы "Роняет лес багряный свой убор" или «Безумных лет угасшее веселье», или «Памятник»); поистине «русский человек в его развитии", как терминологически точно определил Гоголь. Он – самый очевидный и незыблемый мирской символ наше духовного и культурного самостоянья; и в то же время он, как никакой другой гений, разомкнут на- встречу всем флагам мировой . культуры, что лишь укрепляет его ,воздушную монолитность.
Он – такой поэт, у которого, едва перешагнувшего порог тридцатилетия, находящегося в расцвете физических сил, обладающего огромной интимной биографией, но вот, наконец, женившегося, обвенчавшегося, обретшего очаг, – отсутствует личная любовная лирика; слыхано ли такое?
То ли он, что называется, «другой», то ли, наоборот, воплощает в себе ту полноту явления "поэт", которая в других является лишь частично. Так случайны ли «странные сближения», связанные с ним, в том числе с его годовщиной, и побуждающие, чтобы понять его, обратиться к контексту большого бытия, в. нем искать некую особую точку обзора?
Слова о «странных сближениях» он написал, как известно, размышляя о несчастной Лукреции, обесчещенной Тарквинием, о своем «Графе Нулине», о фокусах истории и собственной судьбе. «Странные сближения» сопровождали его всю жизнь, являясь как бы ее родовым качеством, а теперь вот, как видим, перешли и в наши отношения с Пушкиным, в нашу жизнь, словно две эти жизни –. его и наша – составляют одну.
Жутковато и одновременно смешно сказать: сама мировая обстановка нынешних предъюбилейных дней сложилась в рифму с пушкинскими трудами и размышлениями. Если бы Лукреция дала Тарквинию по физиономии и прогнала (как поступила Наталья Павловна с графом), то, пишет Пушкин, мир и история мира были бы не те. Может быть, не я один задаюсь нынче вопросом: не будь из Белого дома и всего последовавшего за этим в заокеанской «империи добра» – творилось ли бы сейчас на Балканах то, что творится, звучали ли бы с такой кровавой актуальностъю «Песни западных славян»?
Вообще жизнь показывает, что Пушкин ничего не пишет «от себя», что он лишь записывает то, что есть или имеет быть, что он лишь более других «покорен общему закону», согласно которому главное Слово было вначале, и не надо ничего придумывать, а надо слушать; что Слово священно, что играть словом так же опасно, как детям играть со спичками.
«Климат, образ правления, вера дают каждому народ особенную физиономию...» – писал Пушкин. В конце века и тысячелетия видно, как проиллюстрировала эту формулу наша история – в прямо об ратном порядке: вначале подтачивалась, расшатывалась, ниспровергалась вера; затем утюжили образ правления; и, наконец, мы – даже и без такой роскоши, как поворот рек, – на своей шкуре испытываем изменения климата. Все это в связи с попытками и результатами сотворить «нового человека» с новой, разумеется, «физиономией». Итоги этого процесса видны отчетливо сегодня, на переходе «от развитого социализма» к недоразвитому капитализму; новая «физиономия» обнаружилась как раз сейчас, при том «образе правления», который сложился на основе позднедиссидентско-номенклатурного синтеза, на почве приобщения России к джунглям «цивилизации и прогресса», где, по словам уже Пушкина, сказанным более полутора веков назад, «все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)». Как упирающуюся лошадь, дергая под уздцы и хлеща, нас тянут в этот мир большевики новой, «либеральной» и «демократической» генерации, не желающие (уже который раз в истории) ни понять, ни хотя бы услышать Пушкиным услышанную истину: «Поймите же, что... история ее (России. -.В.Н) требует другой мысли, другой формулы, чем "мысль» и «формула» Запада. Нам дано воочию убедиться как на собственном, так и на международном опыте, что - при видимой идеологической и политической разности – духовные и метрологические основы, глобальные и антропологические цели большевизма и американизма «не столь различны меж собой", как казалось; что и там и там – все та же ««зелень мертвая ветвей» двева яда – одного во всей Вселенной, но хватающего на всех.
В последнее время я пытаюсь понять, что представляет собой явление, называемое "поздний Пушкин": явление - по моему глубокому убеждению – не хронологическое, а мировоззренческое и начавшееся как раз со стихотворения об анчаре - воплощении и символе мирового зла. Стихотворение это, вопреки устоявшемуся мнению глубоко лирическое, воплотило в своей пророческой суровости опыт того изменения сознания, которое по-гречески называется метанойя, а по-нашему – покаяние. Осмелюсь сказать: поздний Пушкин – писатель эсхатологический. Смолоду столкнувшись в «Борисе Годунове» с проблемой истории, а в «Евгении Онегине» – с проблемой человека, последний период своей короткой жизни он вышел к вопросам о конечных судьбах мира и человечества (включая проблему спасения); чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать «арзрумский» цикл («Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке»), «маленькие трагедии» с «Пиром во время чумы» в качестве финала, «Родрика» и «Странника», «Медного всадника» и «Анджело», сказки о рыбаке и рыбке и о золотом петушке, неоконченную лицейскую годовщину 1836 года и последний лирический цикл.
Взгляд этого писателя, безусловно, невесел, но вовсе не мрачен и не беспросветен уже потому, что не уперт в физическую смерть (Пушкин, особенно зрелый и поздний, вообще не очень верит в смерть, вовсе не верит в абсолютность смерти); сквозь физическую смерть он устремлен к смыслу и цели человеческой истории и вообще сотворенного бытия. Гений позднего Пушкина – зрелый и умудренный дух, который смотрит прямо в лицо будущему мира, в лицо той истине, что человек пал и живет с тех пор в мире падшем, в мире анчара, не только не бесконечном и не бессмертном, как привык считать гуманистический прогрессизм, но чреватом гибелью – и неизбежной, и не столь уж далекой. Но сквозь эту смерть интуиция гения прозревает данность человеку бессмертия, возможность «нового неба и новой земли» (Откр.,21,1), которые нужно заслужить:
"Вращается весь мир вкруг человека
– Уже один недвижим будет он? "
– ("Была пора: наш праздник молодой", 1836)
Это взгляд, вовсе не отнимающий у Пушкина его «веселого имени», а просто – трезвый и ответственный, понуждающий человека, что называется, о душе подумать, о том, для чего живем; требование обернуться к истине высокого человеческого предназначения, которое на каждому шагу забывается, искажается, подавляется «неумолимым эгоизмом и страстию к довольству», ставшими дороже и неба, и земли, то есть теми силами, "которые непрерывно воспроизводят и провоцируют все низшее в человеке". Эго призыв опомниться, обратиться от «недвижности» к духовному развитию – хотя бы сейчас, на пороге, когда новое небо и новая земля уже «близко, при дверях» (Мф., 24, ЗЗ).
Думал ли о чем-либо подобном Гоголь, когда назвал Пушкина «русским человеком в его развитии» – в том развитии, в каком он «явится, может быть, чрез двести лет»? Точно ли удалось ему выразить посетившее его пророческое наитие, в котором Пушкин и судьбы России связаны так, как не связан с судьбами своей страны ни один из иных мировых гениев? Во всяком случае, срок угадан верно: именно ко времени 200-летия Пушкина Россия встала перед неумолимой необходимостью выбрать верный путь. Ведь она, выйдя из почти уже вековой смуты национально-государственной, «домашней», прямиком вошла в поле смуты общемировой, имеющей отчетливо эсхатологический характер.
Современная история показывает, что символизированное мировое зло уже не мыслится в качестве враждебного жизни начала, предмета опасения или объекта борьбы – оно является субъектом и вождем «прогресса». Все силы мирового зла направлены на то, чтобы осчастливить падшего человека в падшем мире, переделав его из существа духовного в экономическое, вытеснить божественное в нем природным (в пределе – животным), творческое начало подчинить потребительской похоти, идеалы заменить интересами, просвещение и культуру - информацией и цивилизацией. Под знаменем рекламы, под девизом «изменим жизнь к лучшему» наступает стихия – по-пушкински говоря – «ничтожества». Ничто, из которого Бог сотворил бытие, стремится взять реванш, вернув Творение к состоянию небытия.
Разумеется, этот конь бледный шествует не без препятствий – и во всей христианской ойкумене наибольшее духовное сопротивление издавна сосредоточено в России (потому и основные силы разрушения стекаются сюда). Не. потому, чтобы мы были в массе своей лучше других людей, совсем нет, а в силу духовной традиции, связанной с православным исповеданием, породившим Россию как нацию и культуру и определившим 'ее систему ценностей.
Размышляя на эту тему. я недавно предложил типологию христианских культур, а именно - характеристику двух основных типов: «рождественского» (на Западе главный христианский праздник – Рождество) и «пасхального» (в православном мире «праздник праздников» есть Пасха). Речь идет о том, какой момент отношений человека с Богом переживается там и как наиболее важный, строящий миросозерцательную систему, практическую ценностную иерархию, стало быть – культуру во всем объеме понятия.
В «рождественской» культуре такой момент – боговоплощение, когда Бог, родившись от Девы, уподобился мне, человеку. В "пасхальной" - призыв ко мне, к человеку, уподобиться Богу, осуществленный в жертве, а затем воскресении Сына Человеческого и сформулированный в словах: возьми свой кресты иди за Мной.
Один тип, таким образом, ориентирован на человека, каков он есть сейчас, в его наличном состоянии и в настоящих условиях; . другой – на человека ков он Богом замышлен, на его духовную перспективу, на идеал человека, соотносимый со Христом, в любых условиях. В "рождественской" системе ценностей главная – права человека, категория юридическая, долженствующая осуществляться по отношению к личности извне ее; в «пасхальной» – обязанности человека (таково, кстати, название книги, получившей высочайшую оценку в пушкинской рецензии), основанные на Христовых заповедях: ценность внутренняя, духовно-нравственная, осуществляемая самим человеком. Соответственно, "рождественский" тип характерен главенством успехов цивилизации, то есть сферы возделывания внешних условий и иных удобств жизни; «пасхальный» тяготеет к собственно культуре как возделыванию человеческой души в свете идеала, то есть по образу и подобию Бога.
Разумеется, абсолютных, "чистых" воплощений того или иного типа "культуры не бывает: любая культура есть, собственно, то или иное сочетание «рождественского» и «пасхального» начал, с большим или меньшим перевесом того или другого; разумеется также, что если доминантой русской культуры генетически является начало "пасхальное" – в отличие от культуры Запада – то это не значит, предположим, будто у нас заповеди исполняются, а «у них» – нет, что у нас одна сплошная культура, а «у них» – од на сплошная цивилизация, и пр., и пр.; люди везде по-своему разные и по-своему одинаковы, и душа человеческая, как говорит Тертуллиан, по природе христианка – только каждая тоже по-своему. Речь идет лишь о коренных мировоззренческих предпочтениях: «рождественский» тип основан на главенстве интереса - так сказать, на отсчете снизу, – в «пасхальном» же отсчет идет сверху, от идеала. Последний, то есть наш, случай, безусловно, труднее и гораздо менее успешен на практике; иными словами, мы сами много хуже нашей ценностной системы, тогда как западные люди, надо думать, много лучше своей. Но при всех наших винах, грехах, безобразиях и бесчинствах, при всем извращении, которому при нашем попущении, большевизм подверг российский духовный генотип, прельстив нас раем на земле, - при всем этом сам по себе отсчет от идеала есть наш - и всей христианской культуры - краеугольный камень и в этом смысле высшая из человеческих ценностей (см. пушкинское стихотворение «Герой»); камень преткновения мешающий «низким истинам» корыстною интереса прибрать. к рукам область человечности человека. Стоит упразднить ту высокую "пасхальную" точку отсчета ценностей, столкнуть этот камень и в бытии произойдет обвал. Именно этому призвана противостоять Россия – не потому, повторяю, чтобы мы были лучше других, а по тому, что для России наличие названного отсчета есть условие существования, вопрос жизни и смерти
Масштабы феномена Пушкина не есть производная его собственных качеств - скорее наоборот; они обусловлены миссией и функцией России в мире, ее провиденциальным заданием, о котором шла речь. Это задание должно было быть воплощено в слове, которое для России есть реальность первостепенно важная и сакральная, - но при том слове, пригодном для мирского, так сказать, гражданского, общекультурного применения. Оно, это задание, и воплотилось в слове Пушкина. Именно он, по верной интуиции Герцена, явился ответом нации на революцию Петра. Целью революции было в конечном счете переделать нацию в «рождественском» (конкретно – протестантском) прагматическом дуле. Явление Пушкина впитало все конструктивное, что было в Петровских реформах, но наследовало традициям допетровской культы с ее неотмирной устремленностью. Оно, это явление, соединило вновь то, что Петр разрубил и разрушил, восстановило духовную родословную русской культуры и способствовало тому, чтобы Россия осталась Россией и продолжала исполнять свое задание.
Сегодня весь мир, словно в силу инстинкта самосохранения перед угрозой энтропии, стремится к целостному знанию, которое по природе есть фундаментальное, то есть самое необходимое; знание. В разговоре - на эту тему один новейшего образца большевик сказал, по словам академика Н.Моисеева: зачем нам развивать фундаментальную науку? Не лучше ли просто покупать передовые технологии? Подобная идеология, как показывает жизнь, активно расползается на область гуманитарную – в первую - очередь образования. Вот это-то опаснее всего, ибо благодаря фундаментальной роли на Руси гуманитарных наук, а также на собственным гуманитарным «технологиям» и существует необыкновенное явление называемое в мире «русскими мозгами».
Пушкин – это самая фундаментальная область нашей гуманитарной культуры как сферы пока еще безусловного национального самостоянья. Все сказанное основано не на опыте, богослова, культуролога или политолога – такого опыта у меня' - нет; все это возникло исключительно из размышлений о Пушкине, в частности из рассмотрения' его главной макроколлизии лежащей в основе, по существу, всех пушкинских сюжетов и во многом определяющей его поэтику. Суть этой коллизии – отношения пушкинского героя, каков он есть в наличии, в своей практике, с тем, каким он мог бы и должен бы быть, то есть с тем, как он прекрасно замышлен Богом (отсюда и трагедия, и притягательная сила таких героев, как Борис или Сальери, Дон Гуан или Вальсингам, отсюда же такие идеальные, но бесконечно живые герои, как Татьяна или Петруша Гринев). Универсальная по масштабу, онтолологическая по характеру, эта коллизия – среда и воздух пушкинского творчества, особенно зрелого и позднего; в иной масштаб Пушкин не вмещается, а в таком – как у себя дома, а сверх того и онтологическое делает близким, и универсальное – твоим.
Филология привычно трактуется в чисто словесническом духе: греческое 1оgоs переводится как латинское verbum, то есть слово понимается лишь как единица речи. Но в нашу эпоху, когда самые актуальные проблемы суть проблемы глобальные, из них же главная: сохранит ли человек свои изначальные родовые свойства как существа вертикального, то есть духовного, - в эту эсхатологическую эпоху пора вспомнить изначальный же – и полный – смысл слова логос, означающего, как известно, и слово, и смысл, и разум, и закон, и творящую силу, и организующий, иерархический принцип, и, наконец, Слово, что было вначале, – и соответственно истолковать высокое назначение занятий филологией.
Эта проблема не узкопрофессиональная, а человеческая, духовная; Пушкин столь же неукоснительно ведет к ней, сколь надежно помогает нам понять самих себя, уяснить наш исторический жребий, определить нашу национальную стратегию, чтобы не исчезнуть вместе с тяжкой ношей нашего мирового задания. Ведь наша эпоха сильно похожа на петровскую, даже с большим – пожалуй, трагифарсовым – превышением; так что «чрез двести лет» Пушкин нужен нам, как сказал поэт, не ради славы – ради жизни на земле.